Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «Хрущев говном собачьим меня обозвал, а потом вошел в раж и стал совершенно неуправляемым: кричал, брызгал слюной... Казалось, у него вот-вот будет падучая»


(Начало в № 33. Продолжение в № 36 и № 37)
«РЯДОМ СО МНОЙ ДАЖЕ ХОДИТЬ БОЯЛИСЬ»
— Когда стало известно о преступлениях Сталина, когда Хрущев разоблачил на ХХ съезде культ личности, для вас это был шок или вы уже знали, что на самом деле происходило в стране?
— Я больше других понимал, больше слышал, потому что дома у нас за карточным столом бывшие заключенные, вернувшиеся из лагерей, очень часто собирались. Рассказывали они обо всем, вплоть до случаев людоедства, так что шоком для меня стал не доклад, а реакция моих учителей, публики.
— Многие отказывались верить приведенным в докладе фактам, впадали в ступор, по этому поводу плакали?
— Во всяком случае, грустили.
— От подавляющего большинства других вы отличались тем, что всегда говорили то, что думали, — редкое свойство...
— Это, к сожалению, глупость, которую я презираю, — из-за нее презирал и сам себя.
— В 62-м, на выставке, приуроченной к 30-летию МОСХа (Московского отделения Союза художников РСФСР), вы, по сути, согласились стать экскурсоводом для Никиты Сергеевича Хрущева — первого секретаря ЦК Компартии Советского Союза и председателя Совета Министров СССР: чем это для вас закончилось?
— Тем, что я был исключен из МОСХа и совершеннейшим стал изгоем — рядом со мной даже ходить боялись.
— Никита Сергеевич сам об услуге вас попросил?
— Никто меня не просил — гидом его был Ильичев...
— ...секретарь ЦК КПСС и председатель идеологической комиссии, курировавший искусство...
— ...который Хрущева водил и натравил на меня.
— Он?
— Ну не только — там и секретари МОСХа были.
— Что Никита Сергеевич вам тогда говорил, помните?
— Говном обозвал собачьим.
— Еще и собачьим? Интересно, когда услышали из уст руководителя огромной страны такие слова, испугались?
— (Возмущенно). Да меня просто тошнило! Не испугался, потому что романтиком был. При такой власти, какой обладали Хрущев и вся эта свора, должен быть какой-то пурпур. Я по темпераменту не либерал и с жестким режимом согласен, но такая некомпетентность...
Из монологов, записанных за несколько лет в мастерских Москвы и Нью-Йорка.
«Вся эта история Манежная — это было безобразие, вакханалия, но невероятно лилипутская... Где-то в тайниках души, когда вся власть приехала, — а я с ней был незнаком — я ожидал пурпура и вдруг встретил каких-то неуклюжих, глупых, толстоухих карликов. Людоеды в пиджаках, боящиеся собственных жен, то есть для меня это было разоблачением и, если хотите, некоторым внутренним оскорблением. Это подкосило меня под корень, потому что жить в этом обществе ужаса и страха я был не готов.
Я фантазировал: какой-то сверхзасекреченный КГБ, как гестапо, какие-то действительные тайные советники, кабинетные макиавелли, а тут кривоногие даже не крестьяне — те аристократические бывают, а существа, которые добежали до города, но их туда за физиологическое безобразие не пустили — вот они мной командуют. Один Суслов чего стоит — какая-то дергающаяся и зловещая, как параноик, птица.
Сам Хрущев, кстати, выделялся в этой толпе энергетикой, природным умом и хитростью — практически у меня было чувство энергетического родства с ним: мой человек! Не по культуре — более некультурного в жизни я не встречал. Даже наш дворник дядя Миша и то культурнее, даже алкаши у пивной, которые все-таки Есенина читают и Высоцкого поют, а не какого-то поэта Малышко, которого он любил».
«ПО СУТИ СВОЕЙ МЯСНОЙ, ПО ПАФОСУ ПЛОТИ ХРУЩЕВ БЫЛ ДЕЯТЕЛЕМ УРОВНЯ ЧЕРЧИЛЛЯ»
— Вы никогда не задавали себе вопрос, почему к власти во многих, практически во всех, странах традиционно приходят худшие, а не лучшие?
— Дело в том, что интриговать и грызть глотки конкурентам худшим и легче, и привычнее — это их призвание.
— На Хрущева после того, как он так вас назвал, вы обиделись?
— Никита Сергеевич еще много пакостей мне наговорил — я просто первое, что в памяти всплыло, вам процитировал: говно собачье. Если бы все этим кончилось... Он же вошел в раж и стал совершенно неуправляем: кричал, брызгал слюной... Казалось, что у него вот-вот будет падучая, но, оглядываясь назад, могу сказать: он на меня произвел тогда впечатление одержимого, но человека.
— На фоне всех остальных...
— Да, по сути своей мясной, по какой-то природной энергетике и огромному темпераменту, по пафосу плоти Хрущев был деятелем уровня Черчилля, а эти, которые сопровождали его, — такие бесплотные монстры.
— Серые приспособленцы?
— Ну правда, а вот он темным был, но только не серым.
Никита Сергеевич был умен, и если я говорил правду в глаза, то как-то перевешивал, брал верх — я это по его лицу видел, а когда начинал как-то лукавить или чуть-чуть приспосабливаться, он меня тут же уделывал. Один пример. Я сказал: «Никита Сергеевич, вы вот ругаетесь, а многие зарубежные коммунисты меня поддерживают, как Луиджи Лонго...» — ну и перечислил многих глав зарубежных компартий. Он хитро прищурился и спросил: «А вас волнует, что они коммунисты?». Я ответил: «Да», а он: «Ну тогда слушайте меня — я главный коммунист».
— Класс!
— Да, Хрущев это умел.

Из книги «Говорит Неизвестный».
«К 1962 году, когда на выставке, посвященной 30-летию МОСХа, я встретился с Хрущевым впервые, за моими плечами был уже немалый и жизненный, и художественный опыт. Семья, пережившая ужасы сталинщины, отец — белый офицер, мать — биолог и поэтесса, наконец, сам я, солдат и офицер, прошедший войну, а затем тяжелые послевоенные годы, университет...
Лепить я начал еще в детстве, но почти всю жизнь метался между искусством и биологией. Ну и еще между искусством и философией — учась в художественном институте, одновременно занимался на философском факультете МГУ.
Должен сказать, что я и мои друзья к нонконформизму или к какому-то особому пути в искусстве специально никогда не стремились. В молодости мы старались овладеть мастерством живописи, рисунка — выйдя из войны, где каждому пришлось немало хлебнуть, мы и дальше старались прямой дорогой идти, так что если и можно говорить о моем каком-то особом почерке художника и скульптора, то складывался этот почерк естественно.
Как скульптор признание я получил довольно рано и к 1962 году уже не раз завоевывал премии на Всесоюзных конкурсах, однако официальным это признание не было. Официальное имели другие, ортодоксальные «мастера» соцреализма, такие, как Вучетич, Герасимов, и вот над ними-то после XX съезда партии и нависла грозная опасность. Дело в том, что в ревизионные комиссии творческих союзов входили в основном люди пострадавшие и отсидевшие — считалось, что при ликвидации последствий «культа личности» в искусстве именно они могут быть наиболее беспристрастными судьями, и вначале они на самом деле действовали смело и энергично.
Так, ревизионная комиссия Союза художников разоблачила «деятельность» супермафии скульпторов и художников — по документам и свидетельским показаниям выяснилось, что крупнейшие творцы периода Сталина самого Сталина обманывали.
Хорошо известно, что в Советском Союзе был только один работодатель — государство, и стремились в эту щель все, потому что другого места, где можно было получить заказ, не существовало, а особенно кровавая борьба за пирог шла на поприще скульптуры.
Такого рода гангстерская деятельность в разных направлениях осуществлялась — в финансовых, идеологических, личных, и все это было отражено в документах. Поручиться за их достоверность я не могу, но, забегая вперед, замечу, что после моего столкновения с Хрущевым в Манеже авторы этих документов страшно перепугались. Тогда один из них — пожилой человек, член ревизионной комиссии — тайно принес копии этих документов мне, воскликнув, что ему уже терять нечего, зато все это может помочь мне в борьбе с художественной супермафией, так вот, я сшил в своем пиджаке большой карман и всегда носил эти бумаги с собой.
Так или иначе, ситуация, сложившаяся в Союзе художников к началу 60-х, была отнюдь не простой: с одной стороны, в искусство шли новые силы, не желающие засилье художественных мафий терпеть, но с другой — располагающие колоссальным влиянием и связями мафиозные группы сдавать своих позиций не собирались, и когда группа молодых, возглавляемых художником Белютиным, была приглашена для участия в выставке, приуроченной к 30-летию МОСХа в Манеже, меня это насторожило.
Весьма странным выглядело само построение экспозиций: на видных местах разместили работы отнюдь не пользовавшихся покровительством партии нонконформистов, и, напротив, работы советских классиков-мастодонтов каким-то образом оказались на заднем плане, в тени.
Я немало сомневался — принимать ли в этой выставке мне участие, в каких целях ее проводят и что значит это странное расположение работ? — но, с другой стороны, Белютин убеждал меня, что наступают другие времена и что партия и ЦК намерены глубоко в делах художников разобраться. Необходимо лишь показать наши возможности, и выставка в Манеже предоставляет такой шанс...
Обстановка накануне 1 декабря 1962 года была страшно нервная — работали мы всю ночь, и среди художников, которые находились в Манеже, было много нескрываемых агентов. Особенно это стало ясно к утру, когда пришел начальник правительственной охраны: он заглядывал под столы и, видимо, боясь бомб или магнитофонов, простукивал бронзу.
Довольно забавный эпизод вспоминаю — когда я спросил его: «Вы что, действительно такой-то?», «Да-да», — он ответил, и тогда я указал на окно, которое просматривалось с противоположной стороны Манежа, со стороны Университета. Как офицер, с некоторой долей пижонства, я заметил, что если он действительно о безопасности Хрущева заботится, то ведь оттуда вполне можно стрельнуть и уж, во всяком случае, увидеть, как к нам в комнату по лестнице будет подниматься правительство. Он взволновался, послал туда несколько человек, чтобы окно забить, но было поздно — в Манеж прибыли вожди.
Мы были измотаны, небриты... Бросилась в глаза небезынтересная деталь, которая мне сейчас вспоминается. Студия Белютина, довольно широко в Манеже представленная, состояла из людей разных национальностей, и, в частности, никакого перевеса евреев не было, но каким-то странным образом приглашены туда в основном были евреи, причем с типично еврейскими лицами.
Уже тогда я почувствовал некий привкус провокации, и, между прочим, об этом Леве Копелеву сказал, который был с друзьями внизу, в залах выставки, в то время как наверху подготовка экспозиции шла. Мы с ним по Манежу гуляли, и я, обратив его внимание на присутствующих, заметил: «Не понимаю, что происходит, — не провокация ли это?». Он плечами пожал: «Я тоже многого не понимаю — может быть, да, а может, и нет».
Кстати, Копелева я очень любил, а познакомились мы с ним так. В 1956 году у меня вместе с другими художниками была однодневная выставка в МОСХе, где меня весьма сильно и неаргументированно бранили, и вот встает рослый красавец и к председательствующему главе МОСХа Шмаринову обращается. «Сейчас, — он воскликнул, — вы критикуете художника уровня Маяковского и Брехта, поэтому ваши фразы становятся историческими, и я вас прошу быть осторожными...». На вопрос, от чьего имени он выступает и кто он такой, он этак вальяжно ответил: «Во-первых, я говорю от собственного имени — я Копелев, и, во-вторых, от имени критиков Союза писателей», чем вызвал некоторое замешательство. После этого я к нему подошел и сказал: «Вы выдали мне такой аванс, что я просто обязан серьезно работать».
Так вот, тогда, в Манеже, мысль о возможной провокации возникла у нас у обоих.
...Наконец, в здание входит Хрущев со свитой. Мы находимся наверху, но снизу до нас доносятся крики и вопли — там происходит некий шабаш.
Какой это был шабаш, не знаю, потому что я в нем участия не принимал, но когда нас выстроили в ряд перед лестницей на верхней площадке, все мои друзья, создав некий круг, начали аплодировать поднимающемуся Хрущеву — их аплодисменты слились с его криками: «Дерьмо собачье!».
Я еще не знал, относилось ли это к нам, но, во всяком случае, Никита Сергеевич был воспален и все были очень возбуждены.
Осмотр он начал в комнате, где экспонировалась живопись, представляемая Белютиным и некоторыми моими друзьями, — там Хрущев грозно ругался и возмущался мазней. Именно там он заявил, что «осел хвостом мажет лучше», и там же произошла очень смешная сцена с Сусловым, который, осматривая работы, сделанные в Саратове, без конца бубнил: «Я сам из Саратова! Я сам из Саратова, это непохоже». Там же было сделано замечание Жутовскому, что он красивый мужчина, а рисует уродов, там же произошла и моя главная стычка с Хрущевым, которая явилась прелюдией к последующему разговору.
Хрущев спросил: «Кто здесь главный?» — и из рядов вытолкнули Белютина, который был растерян, смущен и подавлен. Возможно, он действительно не ожидал провокации — именно эта его растерянность и подтверждает, что сознательным провокатором он не был, хотя такая точка зрения бытует и по сей день. Хрущев задал ему вопрос, расшифровать который я не могу, — он спросил: «Кто ваш отец?», на что Белютин, заикаясь, ответил: «Политический работник».
В это время Ильичев воскликнул: «Не этот главный, а вот этот!» — и указал на меня. Я вынужден был выйти из толпы и предстать перед глазами Хрущева, и тогда он обрушился на меня с криком, именно тогда сказал, что я гомосексуалист (эта «шутка» стала довольно известной, она много раз повторялась на Западе).
Я извинился перед Фурцевой, которая рядом со мной стояла, и выпалил: «Никита Сергеевич, дайте мне сейчас девушку, и я докажу вам, какой я гомосексуалист». Он расхохотался, а курирующий КГБ секретарь ЦК Шелепин заявил, что я невежливо разговариваю с премьером и что я у них еще поживу на урановых рудниках, на что я ответил — и это было именно так, это есть в стенограмме: «Вы не знаете, с кем вы разговариваете, — вы разговариваете с человеком, который каждую минуту может сам себя шлепнуть, и ваших угроз я не боюсь!».
В глазах Хрущева при этом я увидел живой интерес — именно тогда повернулся и сказал, что буду разговаривать только у своих работ, и направился в свою комнату, внутренне не веря, что лидер страны последует за мной, но он пошел за мной, и вся свита и толпа тоже.
И вот в моей-то комнате и начался шабаш. Сперва Хрущев заявил, что я проедаю народные деньги, а произвожу дерьмо, — я же утверждал, что он ничего не понимает в искусстве. Разговор был долгий, но, в принципе, сводился к следующему: я ему доказывал, что его спровоцировали и что он предстает в смешном виде, поскольку не профессионал, не критик и даже эстетически безграмотен, а он утверждал обратное. Какие же были у него аргументы? Он говорил: «Был я шахтером — не понимал, был политработником — не понимал, ну вот сейчас я глава партии и премьер и все не понимаю? Для кого же вы работаете?».
Должен подчеркнуть, что, общаясь с Хрущевым, я ощущал, что динамизм его личности соответствовал моему динамизму, и мне, несмотря на ужас, который царил в атмосфере, беседовать с ним было легко — это был разговор, адекватный моему внутреннему ритму, опасность, напряженность и прямота соответствовали тому, на что я мог отвечать. Обычно чиновники говорят витиевато, туманно, на каком-то своем жаргоне, избегая резкостей, а вот Хрущев говорил прямо — неквалифицированно, но прямо, что давало мне возможность так же прямо ему отвечать. И я утверждал, что это провокация, направленная не только против либерализации, не только против интеллигенции, не только против меня, но и против него.
Как мне казалось, это находило в его сердце некоторый отклик, хотя не мешало по-прежнему на меня нападать, а еще были минуты, когда он говорил откровенно то, что не афишировалось партией вообще, к примеру, когда я опять начал ссылаться на свои европейские и мировые успехи, он меня оборвал: «Неужели вы не понимаете, что все иностранцы — враги?». Прямо и по-римски просто!
Организаторы провокации совсем не предусматривали возможности, что я смогу в чем-то Хрущева убеждать. Они хотели, чтобы тот проехался по нам, как танк, не оставив мокрого места, но раз он со мной разговаривал, значит, вступал в дискуссию, а раз так, значит, слышал то, что не должен был слышать, а я распоясался и говорил то, что думаю.
Когда Шелепин выдвинул против меня обвинения в том, что я гомосексуалист, краду бронзу, занимаюсь валютными операциями и — какая-то странная формулировка! — «позволяю себе недозволенное общение с иностранцами», — я отрезал: «Перед лицом Политбюро ЦК заявляю следующее: «Человек, курирующий КГБ, дезинформирует главу государства либо из собственных интересов, либо он дезинформирован своими людьми, и я требую расследования». Вскоре, кстати, расследование было проведено — меня действительно пытались к валютным операциям подключить, обвинить в краже бронзы и многом-многом другом, но уже спустя полтора года, когда на одном из идеологических совещаний Хрущев снова обо мне вспомнил, Шелепин встал и публично заверил, что эти обвинения с меня сняты.
В конце нашей беседы Хрущев воскликнул: «Вы интересный человек, такие мне нравятся, но в вас одновременно сидят ангел и дьявол. Если победит дьявол, мы вас уничтожим, а если победит ангел, мы вам поможем» — и подал мне руку. После этого я стоял при выходе и, как Калинин, пожимал руки собравшимся, а между тем многим художникам было плохо. Я находился в эпицентре и, может, поэтому не ощущал, как это было страшно, но те, кто стоял по краям, испытывали просто ужас.
Многие из моих товарищей бросились меня целовать, поздравлять за то, что я, по их словам, защитил интересы интеллигенции, а затем ко мне подошел бледный, в потертом костюме, небольшого роста мужчина с бородавкой на носу, как у Хрущева, и, сказав: «Вы очень мужественный человек, Эрнст Иосифович, и если вам надо будет, мне позвоните», сунул какой-то телефон. Я сгоряча не разобрался, кто это, а спустя некоторое время узнал, что это был помощник Хрущева Лебедев, с которым, кстати, встречался потом минимум 20 раз.
По заданию Хрущева Лебедев требовал, чтобы я публично покаялся, то есть передал Хрущеву письмо, которое можно было бы напечатать в советской прессе, как покаянное — видимо, это было партийное задание, и он, как исправный функционер, выламывал мне руки, иногда угощая пряником, чтобы своего добиться.
В результате я таки написал Хрущеву послание, которое Идеологическую комиссию ЦК, по словам Лебедева, не удовлетворило. Лебедев сказал так: «Никита Сергеевич прочитал ваше письмо с интересом, но как символ того, что вы прислушались к критике, напечатано оно быть не может».
Из монологов, записанных в мастерских Москвы и Нью-Йорка.
«Он прошелся по всем, но на мне как-то очень сосредоточился. Может, потому что у меня был отдельный зальчик...
Вот он, мой диалог с Хрущевым, как я это помнил сразу после встречи. Я к нему обратился: «Назовите мне того, кто вам сказал, что вы разбираетесь в искусстве, — и все вокруг отшатнулись. — Это ваш враг. Вы ставите себя в неловкое положение, потому что ничего в этом не понимаете, вас обманывают и подставляют, вас окружают враги, которые хотят сделать вас смешным». Как выяснилось, это была правда, потому что эту пленку они переслали на Запад — на следующий день ее там показывали.
Так жалок, как они, он не был, потому что они еще и его боялись — он-то их не боялся хотя бы. Хамил, конечно: говно собачье, пидарасы — ну что на это отвечать-то? — но, несмотря на ужас происходящего, конечно, я верил. Я доверчивый человек, и спасибо Шелепину (председателю КГБ, а потом секретарю ЦК. — Д. Г.), который сказал мне: «Мы с вами поговорим еще в урановом руднике» — спасибо ему, он меня раскрепостил, и я начал вещать из гроба. Осторожность я хотя бы из инстинкта самосохранения проявил бы, а так решил: ах так? Ну ладно!
Хрущев, хотя в той ситуации сгустившейся, почти осязаемой опасности это могло и померещиться, хитренькими глазками любовно на меня смотрел. Мне кажется, ему нравился мой мат, мое безобразие и вообще бесстрашие полное, я помню, он даже восхитился, когда я заявил Серову, президенту Академии художеств СССР, который что-то стал вякать: «Послушай, дай поговорить с премьером, а с тобой, бандит, мы потом потолкуем». Хрущев, я это увидел, почему-то обрадовался»...

Из книги «Говорит Неизвестный».
«Мое первое впечатление от Хрущева? Должен сказать, что оно было тогда двойственным — я испытывал симпатии к его динамизму и, естественно, к его либеральным акциям, но вместе с тем был абсолютно ошарашен его почти уникальной некультурностью.
В жизни, пожалуй, с человеком более некультурным я не встречался, но одновременно чувствовал в нем биологическую мощь и психобиологическую хватку, во всяком случае, определенная природная незаурядность в Хрущеве была (к сожалению, она так и осталась не подкрепленной столь необходимой для руководителя такого государства культурой).
Динамика наших дальнейших отношений с Хрущевым была такова: его помощник Лебедев периодически вызывал меня в ЦК и вел нескончаемые беседы на тему моего покаяния — это были очень интересные собеседования, причем многое осталось до сих пор загадочным и неясным. Ну, например, когда я совершенно распоясывался, Лебедев показывал рукой на ухо и на потолок, давая понять, что нас подслушивают, а потом выводил меня в коридор и укорял: «Что вы делаете, Эрнст, что говорите? Ведь если это станет чьим-то достоянием, после ухода Хрущева нас на одном суку повесят».
Как-то он мне позвонил и сказал, что Хрущев ночами не спит и, будучи в Югославии, несколько раз звонил ему по телефону — справлялся, как я, то есть, с одной стороны, он меня как-то ласкал, говорил, что Хрущев любит меня, уважает, а с другой — требовал того, что органически я сделать не мог.
Евтушенко, как это ни печально, было поручено уговорить меня написать покаянное письмо, и Женя сам взялся его составить.
Несколько раз я садился и хотел такое письмо писать (ради «своего дела», как мне сказал Шостакович), но у меня просто не получалось и не вопреки даже моей идеологии, а органике, в результате чего я эти письма рвал.
Как-то раз, когда я находился у Владимира Семеновича Лебедева в кабинете, он потребовал, чтобы я сразу все написал от руки. Я спросил: «Ну что же написать можно?», и он сказал: «Садитесь, и я вам продиктую!». Продиктовал он примерно следующее: «Никита Сергеевич, заверяю вас в своей преданности и уважении. Я очень благодарен вам за критику — она помогла мне в моей работе и творческом росте». Мне этого писать не захотелось, и я посетовал, что орфографическими ошибками грешу, на что Лебедев заметил: «Это ничего, Никита Сергеевич сам иногда с орфографическими ошибками пишет» — этим меня он утешил».
«ЕВТУШЕНКО ГОВОРИЛ: «НЕ ОЗЛОБЛЯЙСЯ, ЭРНСТ, НЕ ОЗЛОБЛЯЙСЯ», А ФУРЦЕВА ДЕРЖАЛА МЕНЯ ЗА НОГУ»
— Евгений Александрович Евтушенко рассказывал мне, что на одной из встреч Хрущева с интеллигенцией тот вдруг опять на вас разъярился, стал кричать что-то типа: «Если вам, господин Неизвестный, не нравится наша страна, забирайте свой паспорт и убирайтесь!», и Евтушенко ему сказал: «Никита Сергеевич, как вы можете повышать голос на воевавшего в штрафном батальоне фронтовика? Полспины Неизвестного вырвано осколками немецких снарядов, у него 12 ранений. Допустим даже, он в чем-то не прав, но если что-то ему не удается в искусстве — подскажите, поправьте: он поймет и учтет». Хрущев налился кровью, побагровел, стукнул кулаком по столу и рявкнул...
— (Вместе): «Горбатого могила исправит!»...
— В ответ на это, по словам Евгения Александровича, уже он стукнул кулаком по столу: «Нет, Никита Сергеевич, прошло — и, надеюсь, навсегда! — время, когда людей исправляли могилами». Тут же на него зашикали братья-писатели, особенно Сергей Михалков, который кричал: «Позор! Позор!»... Хрущев обвел всех полным, по мнению Евтушенко, презрения к этим крикунам взглядом и вдруг начал медленно аплодировать. «В его глазах, — сказал Евтушенко, — я увидел предчувствие собственной судьбы, того, что произойдет с ним, когда его рано или поздно свергнут, что так же будут кричать и ему, когда предадут». Евгений Александрович ничего в своем рассказе не упустил, не приукрасил?
— Нет, все так и было. Многие считали Евтушенко хитрецом и говорили, что он царедворец, но ведь там такие же царедворцы сидели — что-то никто из них не посмел хоть как-нибудь меня ободрить. Кроме Фурцевой, которая жестом поддерживала, — они с Евтушенко рядом сидели. Женя говорил: «Не озлобляйся, Эрнст, не озлобляйся», а она держала меня за ногу...
— Вы Фурцевой нравились, наверное, как мужчина?
— Ну, этого я не знаю.
— Екатерина Алексеевна прежде всего была, как мне кажется, женщиной...
— Дело в том, что внешне она по-доброму ко мне относилась, но несла чушь.
— Тоже необразованной была?
— Ну это понятно, но еще и жеманничала: «Пожалейте, в конце концов, меня — вы смотрите на меня только как на министра, но я же женщина. Наши товарищи на меня за вас очень сердятся — вылепите что-нибудь красивое» (смеется). Такая вот женская непосредственность...
Я подумал потом — зощенковская патока. Понимаете, дамочка, сидя на ветке, чирикала: «Милые детки...» — ну что это такое? Мне, стреляному фанатичному мужику, который принципиально делает все от сердца, она предлагает вылепить что-нибудь «красивое».
Из книги «Говорит Неизвестный».
«Фурцева... Пыталась руководить искусством, как капризная салонная дама собственным руководит двором.
Наша первая встреча произошла после моей стычки с Хрущевым, когда меня приручить пытались, и это имеет отношение к прянику. Вхожу к ней, она встает из-за стола, целует меня в щеку и спрашивает: «Я могу вас звать Эрнстом?». Я отвечаю: «Разумеется, Екатерина Алексеевна». — «Ах, я не могу разрешить вам звать меня Катей, но все еще впереди! Скажите, лапонька, как вам кажется мой наряд?» — и она крутится передо мной, как озорная «70-летняя девочка». Я: «Восхитительно! — это из Парижа?». — «По секрету скажу, да!».
После этого мы усаживаемся, она держит меня за две коленки и начинает объяснять, как уважает меня за мою смелость, но только нельзя быть таким экстремистом — и вдруг начинает вести длинную салонную беседу о том, как она перед каким-то своим выступлением волновалась. Тут она повторяет слова примадонн об их переживаниях перед премьерой: «Я так волновалась, что почти ничего не могла сказать. Вы же знаете, у нас надо читать по бумажке, а лично я люблю импровизировать, и представляете, получилось, и сегодня я удовлетворена». Она рассказывает о своей премьере на каком-то идеологическом совещании, и вот на таком уровне междусобойчика она хотела приручить стреляного, измотанного, грамотного мужика, и когда это не получалось, раздражалась. Она хотела, чтобы я был Эринькой, а она — просто Катей, но ведь разговор шел о всей моей жизни, о судьбах искусства, а она хотела свести это к своей стареющей плоти и претензиям.
Рядом с Фурцевой я вижу Демичева — его называли химиком не в том смысле, что это якобы его профессия, а в том, что всегда он «химичил».
Демичев, конечно, разговаривал со мной не так, как Фурцева, но привкус был тот же — он говорил, что очень уважает меня за смелость, обещал, что поможет, но я должен помириться с художниками. На это я ответил ему: «Петр Нилович, вы знаете: на Первый съезд художников я прошел большинством голосов, так что с коллегами не поссорился». Он отмахнулся: «А, бросьте, вы же понимаете, кто являются для меня художниками — руководители президиума Союза и Академии, а с ними вы в ссоре».
И далее: «Ну, что же вы, как бык, в стену уперлись? Я уважаю ваше упрямство, но нет чтобы отойти в сторону. Вот знаете, первопечатник Иван имел уже вместо кириллицы собственный шрифт, а печатал на кириллице, потому как понимал, что не время, — его разорвали бы. Я не призываю вас к компромиссам, но и вы меня должны понять: чтобы я вам мог помочь, вы должны печатать свои идеи на кириллице, а иначе я беспомощен!» — вот на таком уровне партийной лисы он со мной разговаривал.
Или вот еще: Белашова, председатель правления Союза художников СССР, женщина, которая взяла себе уничтоженную маcку спеца. Она говорила все то же, что и Вучетич, но произносила это с привкусом стареющей дамы из бывших: «статюэтки», «соцьреализм», «дюша» — и это функционерам партии нравилось, потому что простой гангстер Вучетич корнал слова так же, как они, а тут ведь и с нами интеллигенция.
Символом интеллигентности была ее челка а-ля Ахматова и фиолетовая шаль — это была партийная дама, микро-Коллонтай, специалистка по ловле душ либеральных интеллигентов, призывавшая к совести, чести и национальному самосознанию. Меня она не обманула и невзлюбила за это страшно, я ей сказал, притом публично: «Подозреваю, что вы были домработницей у какой-нибудь мхатовской артистки», и даже не догадывался, как был прав. Действительно, эта «интеллигентка» была домработницей, правда, не у мхатовской артистки, а у вахтанговской — там она нахваталась старокультурных манер, которыми древнеполицейские услащала идеи, и этим в период так называемой оттепели партии нравилась».
— Евтушенко удивительным образом все-таки поступил — дерзко и смело...
— Женя — артистичный человек, и это очень помогает ему жить, и, думаю, в данном случае он не мог упустить шанс и на этой сцене быть не героем.
«ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ В МАНЕЖЕ ДАЖЕ СЛЕДСТВИЕ ПРОВОДИЛОСЬ: ПИДАРАС Я ИЛИ НЕТ»
Из книги «Говорит Неизвестный».
«Следующая наша встреча с Хрущевым произошла на его даче на Ленинских горах — в Доме приемов на «встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства» 17 декабря того же 1962 года: туда были привезены основные мои скульптуры, и опять-таки всем руководили Ильичев и Промыслов. От них я потребовал, чтобы в экспозицию были включены и другие работы, такие, как «Космонавты», как разработка комплекса Новосибирского городка Науки (я принимал участие в его проектировании), а также мои эскизы для оформления «Артека», то есть вещи, которые считал своими, но которые, как мне казалось, могли быть поняты Хрущевым верно.
Я подошел к Промыслову и возмутился: «Почему вы меня обманули, почему тех работ, о которых просил, нет?». В ответ он цинично усмехнулся: «Из вас будут дьявола выгонять, а у вас еще претензии». Я возмутился: «Но где же ваша хваленая партийная совесть?», на что Промыслов спокойно ответил: «Моя партийная совесть служит только партийному делу».
Как происходило это столь нашумевшее идеологическое совещание? Об этом можно много говорить и вспоминать. Естественно, каждый из его участников был зафиксирован на своих проблемах, а мне казалось, что все крутится вокруг меня (похоже, что так и было).
Сперва, правда, был обед — весьма невкусный, с очень чахлыми напитками, а затем нас всех попросили в большой зал заседаний, куда часть публики уже пришла, — это был такой циркулярный зал, где ряды были расположены амфитеатром и в центре, явно для демонстрации скульптур, стояла тумба.
Я, по своей импульсивности, встал у этой тумбы, собираясь работы свои защищать, но, видимо, в программу устроителей это не входило, потому что я был подследственным и подсудимым и слова мне еще не давали, а затем произошла забавная мизансцена. Все сидели амфитеатром, я стоял в центре этого сборища, и тут появился Хрущев со свитой, со всем Политбюро. Увидев меня, он остановился в дверях, что-то сказал, махнул рукой и вышел, и тут же было приказано перевести заседание снова в то место, где мы обедали.
Я не понял тогда, что же произошло, а в дальнейшем все прояснилось. Меня усадили одного, прямо перед президиумом, за столом, а трибуна стояла буквально в полутора метрах от того места, где я находился. Вблизи от меня было совершенно пустое пространство — никто рядом садиться не захотел (только чуть позже подсели Евтушенко и Фурцева).
Итак, мы расселись, в полном составе вошли члены Политбюро, и добрые молодцы начали вносить скульптуры и загружать ими стол перед вождями.
Таким образом, все Политбюро было отгорожено от зала моими скульптурами — это было смехотворно и несколько разрушило сценарий (впрочем, разрушен он был еще раньше, когда Хрущев из циркулярного зала ушел, но сейчас все это уже носило комический, гротескный характер).
Особенно был смешон Хрущев, который из-за моего «Мальчика с мышкой» выглядывал — самой большой скульптуры. В конце концов, кого-то он подозвал, «Мальчика» положили навзничь, и таким образом Никита Сергеевич стал виден.
Как Хрущев вел совещание? Он поднялся и начал читать по бумажке — это был очень нудный идеологический доклад, с весьма грозными формулировками, в которых все время присутствовало: «Не позволим», «Не разрешим»... В общем, он идеологической дубинкой размахивал, но в процессе чтения оставлял вдруг листок и говорил сам, причем все наоборот.
Это было нелепо и странно — например, обращаясь ко мне (он очень много ко мне обращался), говорил так: «Вот он сидит и думает, что мы против культуры и интеллигенции, и хочет, чтобы мы сразу гайки все отвинтили, а у Чехова злоумышленник гайку через одну отворачивал».
Затем Хрущев вновь брал доклад и снова читал «не позволим», «не разрешим», после чего снова отбрасывал бумажку и ни с того ни с сего философствовал: «Вот, говорят, что я не люблю евреев, — это неправда, хотя в действительности бывают такие обстоятельства, когда и выбора нет. Ну вот, например, вспоминаю я, в Киеве идет молодой офицер, еврей, а сзади два хулигана. Пристали к нему: «жид» да «жид», и нет чтобы посмеяться, а он взял да их застрелил — естественно, публика погромы устраивает».
Или, например, его рассказ о Пине — я его собственными ушами слышал и даже, придя домой, записал. Хрущев произнес: «Вот расскажу вам одну историю» — причем опять вне всякого контекста. «Сидят урки в тюрьме и друг друга боятся, а надо же старосту выбрать, но кого, если один другого боится? Оказался среди них еврей, Пиня, — смирный такой, и вот решили они: выберем его — он будет послушен. И выбрали Пиню, а Пиня стал ох каким старостой — всех зажал. Урки вскоре бежать задумали и сделали подкоп, но кому идти первому — первому ведь и пуля в лоб? И вот Пиня вызвался: «Я, как староста, первым пойду». «Так вот, товарищи, — закончил Никита Сергеевич, — я этот Пиня!», и после этого, без всякой паузы, снова принялся читать грозный идеологический доклад.
Про меня там масса странных вещей была: например, он утверждал, что я не художник, что руководитель клуба Петефи, офицер и что жажду занять их место и убить Политбюро ЦК (он даже красочно показал, ткнув себе пальцем в лоб и в сердце, как я буду его убивать). Я кричал с места, что это, Никита Сергеевич, глупость — хочу только лепить и лепить, как хочу, но слова мне не давали.
Были и другие занятные моменты, например, когда он, спутав медиума и гипнотизера, вдруг закричал: «Евтушенко, отодвиньтесь от этого человека — он и вас загипнотизирует!», а потом оторопело подумал и начал орать: «Медиум, медиум! Поезжайте к своим духовным отцам на Запад: я премьер и ручаюсь, что дам вам паспорт и деньги на дорогу!». Я встал и сказал: «Никита Сергеевич, не говорите глупости, не вам за меня выбирать Родину!». Меня тут же одернули за то, что невежливо разговариваю с премьером, но я повторил: «Не для того я сражался на фронте, чтобы Родину покидать», и, представьте себе, он меня обнял и после этого продолжал утверждать, что я враг номер один и мне здесь не место.
Много времени спустя я понял, что при всей спонтанности Хрущева в его поведении была своя логика: этот человек отменил сталинский страх, но руководить аппаратом и страной без страха не мог, потому что не изменил структуру, и нагнетал страх своей непоследовательностью. Никто не знал, что он сделает каждую следующую минуту, — я, например, видел ужас на лицах членов Политбюро от его комментариев во время доклада. Думаю, что все это он делал специально, чтобы окружающие находились в страхе и неведении. Многие его поступки, которые объясняют волюнтаризмом, были эгоистически и политически оправданны — он разъединял министерства, соединял, но просто хотел разрезать по частям и перетасовать мафии, слежавшиеся десятилетиями, чтобы иметь возможность ими манипулировать, так что, повторяю, в этом аппаратном безумии была и своя эгоистическая аппаратная логика.
В этом было нечто запрограммированное, как стиль руководства: Хрущев был человеком, который хотел перепрыгнуть пропасть в два прыжка, но сделать это было невозможно.
Между тем все это наводило ужас и на меня лично, и на мое окружение: многие из ближайших моих знакомых после всего этого не подавали мне руки, а многие незнакомые люди публично меня целовали. Каждый считал необходимым как-то отреагировать и выбирал то, что, по его мнению, было наиболее с настроением Хрущева созвучно.
Евтушенко тогда меня защитил, и за это я ему благодарен, но, как это ни странно, даже Вучетич, большой царедворец, лиса и самый мой главный враг, на этом совещании двойственную занял позицию — он, например, встал и сказал, что берет меня на поруки и что я у него буду работать. В перерыве я подошел к Вучетичу и задал вопрос: «Евгений Викторович, как же я могу у вас работать, если все конкурсы у вас выигрываю?», на что он цинично ответил: «Если бы ты был бездарен, зачем был бы мне нужен?» — вот как это совещание проходило.
Что интересно, и после него Владимир Семенович Лебедев изо всех сил пытался вырвать от меня необходимое для партийного пользования покаяние. Вообще, я должен отметить, что им не так было нужно тело, как покаяние и душа грешника, и именно в борьбе за мою душу (ведь тело им взять ничего не стоило) Лебедев вместе с Хрущевым потерпел поражение».
«ХУДОЖНИКИ — НАРОД НЕСДЕРЖАННЫЙ, ОНИ СВОЕГО ПРЕЗРЕНИЯ НЕ СКРЫВАЮТ»
— При разносах Хрущевым художников, когда он кричал им: «Пидарасы проклятые!», вы присутствовали?
— Ну он и на меня так кричал — потом даже следствие проводилось: пидарас я или нет.
— Серьезно?
— Ну а как? — а еще меня обвиняли в том, что для своих скульптур воровал якобы бронзу.
— Сергей Никитич Хрущев говорил мне, что его отца перед этим выступлением резко негативно идеологи партии настроили: сказали, что эти художники гомосексуалисты и так далее...
— Ну, конечно, — я совершенно четко знаю (вот именно знаю, а не считаю), что это прямая была провокация, и не только против интеллигенции и меня лично, но и против него, и ему об этом сказал. Понимаете, больших врагов, чем коллеги, нет...
— ...я догадываюсь...
— ...а руководители Союза художников, МОСХа были абсолютно бездарны и, значит, несчастны, потому что у них там машины, дачи — все есть, но ощущение собственной бездарности отравляет жизнь. Художники ведь тоже народ несдержанный — они своего презрения не скрывают.
— Что в результате, зная Хрущева лично и понимая, что происходило с ним и со страной в годы его правления, вы о нем думаете?
— Думаю то, что в надгробном памятнике изобразил.
— Половина — светлые дела, половина — черные?
— Да-да-да, хотя сколько черных и светлых, взвесить на весах невозможно. Это не мука, не сахар, не что-либо неодушевленное, а жизнь человеческая, и если бы он уничтожил или предал только одного кого-то, а там тысячи...
После того как Хрущева сняли, я набрал телефон Лебедева, который сколько со мной встречался, все уговаривал написать Хрущеву письмо. Евтушенко даже сочинил за меня текст — я ставить подпись под ним отказался, — а Дмитрий Дмитриевич Шостакович пригласил к себе и требовал подписать с абсолютно ницшеанской уверенностью, что мы стоим над условностями и должны своим талантом служить искусству, а все эти политические дрязги не для нас...
«Владимир Семенович, — я произнес, — вы хотели, чтобы я публично к Никите Сергеевичу обратился? Будем считать этот разговор публичным, — он хихикнул, понимая, что нас прослушивают. — Передайте Никите Сергеевичу: пришло время сказать, что я очень его уважаю за то, что культ Сталина разоблачил и выпустил миллионы людей из тюрем, — перед лицом этого подвига наши эстетические разногласия считаю несущественными».
...От родственников Никиты Сергеевича я узнал, что Хрущев, когда это услышал, расплакался.
— Вы с ним после бурных тех объяснений встречались?
— Я отказался...
— А он хотел?
— Да, когда уже был снят со всех постов и жил на даче...
— Могу только об этом догадываться, но Никита Сергеевич, видимо, хотел как-то покаяться перед вами за несправедливость...
— Это у него и в мемуарах написано. Не помню дословно, но выдержки мне кто-то из Хрущевых прислал: то ли его сын Сергей, то ли вдова Нина Петровна. Там говорилось примерно так: я несправедливо ругал скульптора, но, надеюсь, критику он поймет и исправится — что-то в таком роде...

Из книги «Говорит Неизвестный».
«В один из дней мой друг, женщина, работавшая референтом в аппарате тогдашнего президента Академии наук Келдыша, позвонила мне по телефону и сообщила, что Хрущева снимают, — широкой общественности это еще известно не было. Я сразу же набрал номер Лебедева, однако никакого ответа не было.
На другой день, когда я позвонил снова, Лебедев подошел (этот человек обладал уникальной способностью по телефону узнавать голоса и помнить все имена и отчества). «Владимир Семенович, — начал я, — вы хотели, чтобы я сказал Хрущеву, что его уважаю и многое другое, так вот, сейчас я имею возможность это сделать, и будем считать наш разговор публичным (понимая, что телефон подслушивается, он хихикнул. — Э. Н.). Итак, передайте Никите Сергеевичу, что я его действительно глубоко уважаю за разоблачение культа личности и за то, что выпустил миллионы людей из тюрем, — перед лицом этого считаю наши эстетические разногласия несущественными и желаю ему здоровья и долгих лет...».
Была пауза, после которой Лебедев очень тепло — хотя обычно весьма был холодным — произнес: «Другого я от вас, Эрнст Иосифович, и не ожидал — я это Никите Сергеевичу передам».
После снятия Хрущев три раза присылал ко мне человека, который приносил от него извинения и просил приехать к нему на дачу. Я этого не сделал, но не по трусости (трусить было нечего — на даче у него бывал Евтушенко, встречался он и с другими): не поехал просто потому, что не считал возможным вести наши дискуссии дальше. Я знал и себя, и Хрущева и понимал, что этого не миновать, но сейчас это было бесполезно, а кроме того, травмировать его уже в тот момент не хотел.
Таким образом, легенда о том, что я встречался с Хрущевым на его даче, лишена всякого основания — ни разу после его снятия с ним я не виделся, правда, Нина Петровна прислала мне выдержку из его будущих мемуаров, где Хрущев, как бы косвенно, передо мной извинился, но должен сказать, что меня это извинение не удовлетворило. Дело в том, что и тут (может, по законам психологии, а может, и по некоторому природному лукавству) у Хрущева проскользнула нечестность, а именно он извинился передо мной за то, что над моей фамилией издевался. Велико дело — я этого даже и не заметил: извиняться нужно было за другое!».
Киев — Нью-Йорк — Киев

 Внук Сталина, сын Василия Сталина, российский театральный режиссер Александр БУРДОНСКИЙ: «Мачеха, дочь маршала Тимошенко, била нас смертным боем, даже плеткой, Наде, сестре, губу нижнюю оторвала. Ее, девочку шести-семи лет, ногами в сапогах избивала и почки отбила»
Внук Сталина, сын Василия Сталина, российский театральный режиссер Александр БУРДОНСКИЙ: «Мачеха, дочь маршала Тимошенко, била нас смертным боем, даже плеткой, Наде, сестре, губу нижнюю оторвала. Ее, девочку шести-семи лет, ногами в сапогах избивала и почки отбила» Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «Хрущев говном собачьим меня обозвал, а потом вошел в раж и стал совершенно неуправляемым: кричал, брызгал слюной... Казалось, у него вот-вот будет падучая»
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «Хрущев говном собачьим меня обозвал, а потом вошел в раж и стал совершенно неуправляемым: кричал, брызгал слюной... Казалось, у него вот-вот будет падучая» Глава Одесской таможни Юлия МАРУШЕВСКАЯ: «Система сконструирована так, чтобы таможенники оставались на грани выживания и были вынуждены красть»
Глава Одесской таможни Юлия МАРУШЕВСКАЯ: «Система сконструирована так, чтобы таможенники оставались на грани выживания и были вынуждены красть» Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ: «Телемарафон «Пісня об’єднує нас!» — безпрецедентний вікопомний мегапроект, унікальний для нашої країни»
Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ: «Телемарафон «Пісня об’єднує нас!» — безпрецедентний вікопомний мегапроект, унікальний для нашої країни» Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1942 года: «Кошек нет теперь, собаки — редкое явление. Тихо, безлюдно, безжизненно вокруг нас... Разговоры о еде, без конца о еде, и все о ней»
Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1942 года: «Кошек нет теперь, собаки — редкое явление. Тихо, безлюдно, безжизненно вокруг нас... Разговоры о еде, без конца о еде, и все о ней»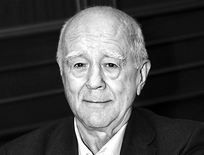 Неудобный вопрос: зачем?
Неудобный вопрос: зачем? Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги